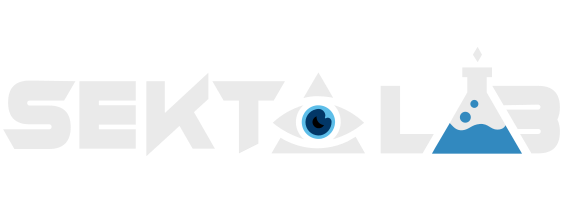March
Посвященный
Пыль на стеклянных баночках любит одиночество. Она танцует в солнечных лучах, мол среднивековом карнавале, и, устав, бежит в объятья к тоске и горечи.
Содержимое же, любит социум. Ему не сидится на месте и, при первой возможности, оно разъест кости. Будто в среднивековой революции, вяжет атомы верёвками и душит, душит, душит.
Мы размыты водой цвета безнадёжных дней, или просто нарисованы на стене, только не поймёшь, из чего она, — то ли из камня, холодного, как мои мёртвые губы, — то ли из асфальта, на котором мы когда-то лежали, принимая забвение прямо в сердце, которого уже не существует. Его разъел дым от дешёвых сигарет, что я курила в ночи, пытаясь заглушить кричащие звёзды глубоко в лёгких, но теперь эта пустота, пустота с запахом сырости.
Разрушаться в себе каждый день под натиском глыб, спадающих с самых вершин в голове. Сокрушаться в агонии по самой себе, оказавшейся в развалинах. Сокращаться в трещинах, предвещающих новые головотрясения и разрушения. Но я всегда буду просить тебя об одном — подари мне самое острое лезвие.
Содержимое же, любит социум. Ему не сидится на месте и, при первой возможности, оно разъест кости. Будто в среднивековой революции, вяжет атомы верёвками и душит, душит, душит.
Мы размыты водой цвета безнадёжных дней, или просто нарисованы на стене, только не поймёшь, из чего она, — то ли из камня, холодного, как мои мёртвые губы, — то ли из асфальта, на котором мы когда-то лежали, принимая забвение прямо в сердце, которого уже не существует. Его разъел дым от дешёвых сигарет, что я курила в ночи, пытаясь заглушить кричащие звёзды глубоко в лёгких, но теперь эта пустота, пустота с запахом сырости.
Разрушаться в себе каждый день под натиском глыб, спадающих с самых вершин в голове. Сокрушаться в агонии по самой себе, оказавшейся в развалинах. Сокращаться в трещинах, предвещающих новые головотрясения и разрушения. Но я всегда буду просить тебя об одном — подари мне самое острое лезвие.